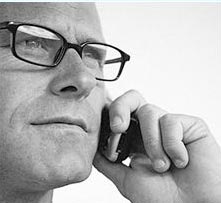


|
Пример №62. Адвоката Ф. и судью уголовной коллегии областного суда М. зачастую видели за шахматной партией и живой беседой во время прогулок. Нередко и за бутылкой вина. Взаимная симпатия, общность и широта взглядов как-то сами по себе вылились в такие отношения, которые можно было бы характеризовать как дружба. Кое-кто, как и водится в таких случаях, не одобрял таких отношений между судьей и адвокатом. Не очень поощрялось это и судебным начальством. Но М., участник войны, судья с большой буквы, известный как автор книги о подпольном сопротивлении в Донбассе во время Великой Отечественной войны считал, что может позволить себе игнорировать взгляды начальства. Все было бы ничего, если бы не один случай, который навсегда положил конец этим теплым дружеским отношениям, которые переросли в приветствие на расстоянии. Случилось так, что по принципиальному для адвоката Ф. кассационному делу на его же жалобу председательствующим в коллегии оказался судья М. Ф. очень тщательно готовился к заседанию кассационной коллегии и возлагал серьезные надежды на эту судебную инстанцию, поскольку приговор суда первой инстанции был, по его мнению, необоснованным и почти бездоказательным. Увидев в качестве председательствующего своего друга, Ф., зная его, как человека умного, взвешенного и довольно независимого, решил, что их дружеские отношения не помешают ему принять справедливое решение о несоответствии приговора материалам дела. И все же, в каком-то потаенном уголке души было тревожно - почему М. сел слушать это дело... Выслушав стороны, коллегия, не долго советуясь, "проштамповала" приговор, то есть, оставила его без изменения. Объявив постановление, М. беспомощно пожал плечами в адрес Ф.: будто, извинился - мол, ничего поделать не мог. Ф. со временем добился таки отмены приговора суда и постановления кассационной коллегии, а при случайной встрече в коридоре областного суда М., как будто ничего и не случилось, подошел к Ф. Поздоровавшись, он с легкой улыбкой и, будто оправдываясь, промолвил: "Понимаешь, я не мог настаивать на твоей правоте, все же знают, что мы друзья..." Итак, жертвой дружбы адвоката с судьей оказался подзащитный, который пострадал из-за недальновидности защитника. На этом их дружба закончилась, а отношения по инициативе адвоката приобрели характер "шапочного" знакомства*. Примеров, которые очень убедительно доказывают стратегическую несовместимость служебных задач и обязанностей следователей, судей и адвокатов с дружескими отношениями можно привести великое множество. Итак, намного целесообразнее сохранять добрые и равные отношения со своими коллегами из других профессиональных дивизионов, не переводя их в состояние сближения, которое требует определенной жертвенности. §39. НАЗНАЧЕНИЕ, РОЛЬ И ИСКУССТВО СУДЕБНОЙ РИТОРИКИ "Чтобы достойно и профессионально осуществлять функцию обвинения или защиты на суде, надо уметь говорить", - так начинает П. Сергеич свою книгу "Искусство речи на суде" . Казалось бы, не ахти какая мудрость - уметь говорить. Смысл приведенного, как сказали бы сегодня, алгоритма состоит в том, что уметь говорить и уметь произносить в суде - это далеко не одно и то же. Будущему юристу следует хорошо усвоить, что умение говорить в суде - это реальносуществующий, ничем не заменимый и процессуально необходимый фактор судопроизводства. Владение искусством пользоваться словом органически востребовано сущностью судопроизводства, в особенности, если суд действительно настроен на поиск истины, а судья искренне надеется услышать от участников процесса нечто такое, что поможет ему в этом поиске. Если он слушает и слышит. Если же судья во время выступления адвоката уже пишет приговор и лишь на миг поднимает свои стеклянные глаза на говорящего, в таком суде померкнет любой талант, поскольку он лишний на этом судилище. Слова, сказанные П. Сергеичем, прозвучали в начале XX века в царской России, то есть в период расцвета судов присяжных, когда выступление адвоката было действительно эффективным инструментом влияния на суд через представителей народа - присяжных. Именно с появлением таких судов на территории европейских государств, а потом и в Российской империи, судебное ораторское искусство достигло своего апогея. "Судебное красноречие Франции, - отмечает Е. М. Ворожейкин, - во многом обязано своими успехами суду присяжных и состязательной форме рассмотрения уголовных дел". Суды присяжных во Франции были введены Национальным собранием 16 сентября 1791 г. В России аналогичное событие состоялось лишь три четверти столетия после осуществления судебной реформы 1864 года. Со времени введения в России новых судов, с их гласным и устным судопроизводством , возникла острая потребность в судебных ораторах Ораторскому искусству, в общем, и - судебному, в частности, посвящено много литературных, мемуарных, научных и учебных произведений, начиная с античных и римских ораторов и риторов: Аристотеля, Демосфена, Катона-цензора, Гая Гракха, Юлия Цезаря, Помпея, Цицерона и заканчивая сегодняшним днем. Само слово "оратор" происходит от лат. "орис" - рот. Теория ораторского искусства исследуется и развивается риторикой. Признанный специалист в области теории ораторского искусства Д.М. Александров, обобщая существующие определения риторики, считает, что риторика - это теория ораторского искусства, теория красноречия, наука об умении говорить красиво, хорошо так, как нужно в данном случае. По мнению автора, понятию риторики более отвечало бы следующее определение: Риторика как теория ораторского искусства - это наука об умении говорить так, как это наиболее целесообразно и уместно в данном случае. Говорить "красиво" и "хорошо" - понятия очень относительные и имеют потребность в дополнительном разъяснении. Слово же "уместное" представляется более конкретным и емким и подчеркивает уровень деловитости и допустимой "красивости" языка в соответствии с конкретными обстоятельствами. В особенности, когда это касается судебной риторики, где разного рода красивости не совсем уместны. Существует немало общественных занятий, где умение говорить образно, убедительно и пламенно решает успех дела, а нередко определяет карьеру оратора, его будущее. Чаще всего, это касается политиков, адвокатов, преподавателей, актеров. Талант говорить эмоционально, владеть аудиторией и массами людей привел к неограниченной власти над публикой Демосфена и Цицерона и целыми народами - Робеспьера и Дантона, Керенского и Ленина (Ульянова В. И.), Троцкого, Д. Неру, Гитлера, Гебельса, Ф. Кастро и многих других прирожденных блестящих политических ораторов. Пятеро среди названных - были адвокатами. Судопроизводство предусматривает постоянное общение юристов-профессионалов как между собой, так и с людьми, которые так или иначе оказались причастными к данному судебному процессу. Это процессуальное общение во времена А.Ф. Кони нашло свое удачное выражение в незаслуженно забытом слове "судоговорение". Объявление обвинительного приговора или изложение исковых требований, дача показаний подсудимыми и свидетелями, сторонами, постановка вопросов допрашиваемым лицам и экспертам, изложение участниками судебного процесса заявлений и ходатайств, в конце концов, судебные споры, объявление обвинительного приговора и решения суда -все это элементы судоговорения. Специфика судоговорения состоит в строгой процессуальной упорядоченности, где каждое слово, произнесенное в ходе судебного заседания, имеет свое процессуальное название и назначение. Председательствующий в суде не разговаривает, а ведет судебное заседание. Стороны судебного дела: подсудимый, истец, ответчик, их представители, а также свидетели - дают пояснения, показания, свидетельства. Участники судебного процесса: государственный обвинитель, адвокат, части 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|

© Copyright 2008 www.ukadvo.ru |
|---|